ИСТОРИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ
ЦАРИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ
М.Н.Покровский
X. Буржуазия, революция и пролетариат.
Но если русская буржуазия не могла взять на себя революционной миссии, — другими словами, если ей было выгоднее чинить ветшавший царизм, нежели разрушать его, — то тем настойчивее задача разрушения становилась перед другим классом, который на западе Европы шел за буржуазией по дороге революции, и, которому у нас пришлось идти в п е p e д и нее. Характерно, что, отнюдь не питая никаких черных мыслей насчет буржуазии, ласково давая ей лобызать свою августейшую руку, к которой буржуазные уста тотчас же жадно приникали, — царизм сразу начал подозрительно коситься на неизбежного спутника фабриканта, фабричного рабочего. Изо всех сил насаждая в России крупную индустрию, министры Николая I изо всех же сил должны были уверять себя, что от этого в России не народится пролетариат.
„В Россiи фабричные и другие работники приходятъ изъ селений", писал Канкрин: „что, между прочимъ, имеетъ то величайшее достоинство, что препятствуетъ чрезмерному умноженiю городского фабричнаго cocлoвiя, которое при застое въ работахъ впадаетъ въ нищету. Крестьянинъ въ такому случае возвращается въ деревню и, если даже ничего не выработалъ и не уплатилъ податей, то имееть, по крайней мере, кровъ и ежедневную пищу: фабричное сословiе не соединяется, чтобы вынудить увеличение платы.Оставлеiня работы, смятенiя не улучшаютъ состояния работниковъ фабричныхъ и еще менеe ограждаютъ ихъ отъ несчастнаго состоянiя: такiе безпорядки весьма обезпокоиваютъ жизнь общественную, а всего опаснее то, что невозможно предвидеть, какъ далеко можетъ зайти въ своемъ озлобленiи такой народъ при подобныхъ обстоятельствахъ".
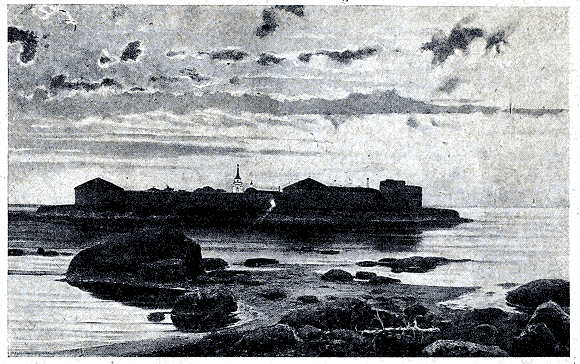
Шлиссельбург.
Голоса лидеров буржуазии сливались здесь в дружный хор с голосами слуг самодержавия: отстаивая освобождение крестьян непременно с землей, Кавелин особенно подчеркивал, что „этимъ мы навсегда избавляемся отъ голоднаго пролетариата и неразрывно съ нимъ связанныхъ мечтательныхъ теорiй имущественнаго равенства, отъ непримиримой зависти и ненависти къ высшимъ классамъ и отъ последняго ихъ результата — соцiальной революцiи". Это было почти дословное воспроизведение аргументами самихъ „редакцiонныхъ комиссiй" — т. е. Николая Милютина и его товарищей, писавшихъ, что „коалиция работниковъ, коллективная оппозиция противъ капиталистовъ и властей, со всеми ихъ последствiями... развились почти исключительно въ техъ сословiяхъ, въ которыхъ распущенныя личности, не связанные никакимъ общимъ поземельнымъ интересомъ и предоставленныя самимъ себе, сознали свою единичную слабость и сложились въ искусственные союзы, враждебные правительству, собственности и общественному порядку". И последовательным „буржуа", вроде кн. Черкасского, приходилось уже доказывать, что небольшой пролетариат для России будет ничуть не опасен, а только полезен. Черкасский (в 1856 г.) предлагал освобождать крестьян не даром, а за высокий выкуп, настолько высокий, что за 10 лет, по его вычислениям, могло бы освободиться не более 2 миллионов душ: при еще менее
многочисленном „рабочем сословии" капиталистическое хозяйство вовсе не могло бы идти.

Русских революционеров часто упрекали — и упрекают — что они живут завтрашним
числом, не умея ограничить себя реальностями настоящего дня. Как видим, их социальные противники (и из самых „трезвых" и „солидных") показывали им, в этом отношении путь. Какая, казалось бы, могла быть опасность социальной революции в России в 1861 году? А ею, этой опасностью, по крайней мере отчасти, определились „ход и исход крестьянской реформы" — освобождение непременно с наделом, хотя бы и кошачьим. Между тем, революционеров-социалистов тогда еще почти и не было на сцене.
Программа декабристов, — если откинуть в сторону освобождение крестьян, в котором никакого социализма тоже, разумеется, усмотреть было нельзя, в какой микроскоп ни смотри, — эта программа была чисто политической. То была ликвидация самодержавия, доходившая у более левых до ликвидации монархии вообще; но, за исключениемъ Пестеля, даже сословное общество оставалось на своем месте. Помещики все-таки получали вдвое более политических прав, чемъ не-помещики (для владельцев движимого имущества конституция Н. Муравьева устанавливала, как известно, двойной ценз), а крестьяне — в пятьсот раз меньше, чем „господа". Один Пестель проектировал, действительно, демократию — но демократию чисто буржуазную, с поощрением буржуазного сельского хозяйства, например: на него отводилась половина национализованной земли. Найти что либо социалистическое даже у левейшего из декабристов столь же трудно, как что либо республиканское у Николая I.
Успешнее, по-видимому, должны бы были быть поиски у петрашевцев, так горячо пропагандировавших своего Фурье. Но приглядитесь к их практической программе. „Сам Буташевич-Петрашевский преимущественно возбуждал вопрос о перемене судопроизводства и об освобождении крестьян", писалъ разбиравший дело генерал-аудиториат. Кроме того, он хлопотал о реформе местного самоуправления — с привлечением к нему таких лиц, которые „сравнительно съ другими, т.-е. съ массою населенiя,""могли бы быть названы умственною аристократiей". Для всего этого, нужно прибавить, он и средства рекомендовал преимущественно легальные. Но и сторонники самых революционных средств из петрашевцев, Черносвитов и Спешнев, предполагали пустить в ход эти средства, опять таки, для освобождения крестьян. А главное, никаких „работников", образующихъ „искусственные союзы, враждебные правительству, собственности и общественному порядку" и у петрашевцев днем с огнем нельзя было бы разыскать. „Умственная аристократiя" русскихъ уездных и губернских городов заключала в себе, по Петрашевскому, „кроме купцов", „еще учителей училищ, докторов, аптекарей, попов, отставных небогатых чиновников": словом, тот класс общества, который марксисты впоследствии окрестили „мелкобуржуазной интеллигенцией". Из этого же класса рекрутировались и сами заговорщики, среди которых, по донесениям николаевских шпионов, рядом „с гвардейскими офицерами и с чиновниками министерства иностранных дел" находились „не кончившие курса студенты, мелкие художники, купцы, мещане, даже лавочники, торгуюшие табаком". Как видим, термин „мелкая буржуазия" сюда еще больше подходить, чем к „умственной аристократии" самого Петрашевского.

XI. Революция и разночинная интеллигенция.
Такое понижение в чине российской революции — среди декабристов было много гвардейских офицеров, но ни одного „лавочника, торгующаго табакомъ" — сильно смутило слуг императора Николая. Их должна бы была успокоить другая черта „заговора Петрашевскаго" (что никакого заговора не было, соглашался даже генерал-аудиториат): с демократизацией социального состава „заговорщиков" понижался и тон их политических
требований. Дворянские революционеры первой четверти столетия не хотели успокоиться наменьшим, чем „республика, сверху прикрытая императорской короной": сохранить в руках императора действительную власть никому из них не приходило в голову. Революционные разночинцы середины века не доходили даже до настоящей конституции: реформы 60-х годов осуществили три четверти их „платформы". А когда это осуществление стало фактом, политика из программ русской революции вовсе исчезла почти на двадцать лет. На другой день после крестьянской реформы о конституции толковали в легальных дворянских собраниях, да в полулегальных кружках, ютившихся около „Современника" — лидером которых был Чернышевский, и откуда вышел ,,Великорус".
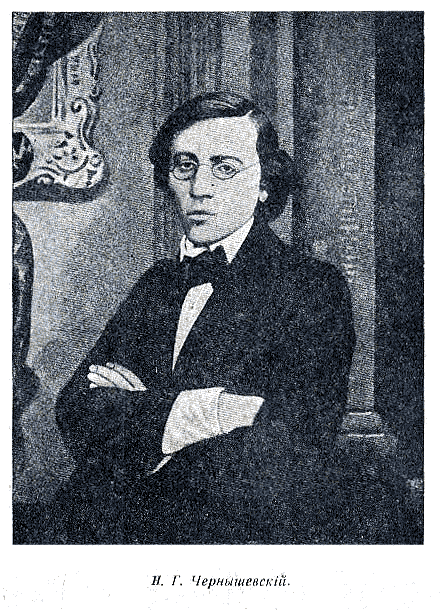
Наибольшую революционность полиция Александра II признавала за „лондонскими пропагандистами", с Герценом во главе — но это едва ли не было результатом консервативности, свойственной всегда такому мало-прогрессивному учреждению, как политическая полиция. Ибо и Герцен с товарищами едва ли не помирились бы на дарованной свыше конституции yмереннейшего типа: вышедший из этих кругов проект Серно-Соловьевича почти сполна был осуществлен в 1906 году — и как мало оказались этим довольны вечно неблагодарные россияне!
А когда из среды людей, стоявших вне „политического общества", много ниже теx*, с кем „стоило" считаться, послышался хоть и крайне наивный, но действительно революционный призыв, — словом, когда появилась знаменитая прокламация Зайчневскаго „Молодая Россiя", не только у Герцена ничего не нашлось для „юношей фанатиков", кроме слова порицания, но и от Бакунина они должны были услышать суровый реприманд: „Редакторовъ „Молодой Россiи" я упрекаю въ двухъ серьезныхъ преступлiеняхъ: во-первыхъ, въ безумномъ, истинно доктринерскомъ пренебреженiи къ народу, а во-вторыхъ, въ нецеремонномъ, безтактномъ и легкомысленномъ обращенiи съ великимъ деломъ освобождения"... Так встретил будущий отец европейского анархизма программу, где самыми радикальными требованиями были: прогрессивный подоходный налог, замена постоянной армии милицией, полное и безусловное равноправие женщин. Правда, осуществить все это предполагалось открыто-революционным путем (для таких требований трудно было придумать легальные пути осуществления) — и вместо царской доброты, на которой базировались, более или менее, чаяния всех конституционалистов теx дней, был брошен, так странно звучавший в ушах внуков Пестеля, лозунг республики. Правда и то, что изложено все это было в чрезвычайно „гимназической" форме. Но тем страннее ужас перед „Молодой Poccieй" буржуазных кругов — ужас настолько панический, что он заставил считаться с собою даже и такого, не легко пугавшегося, человека, как Бакунин. Последний едва ли улавливал настоящую подкладку этой паники: с царизмом только что был заключен конкордат — напоминание о необходимости убить чудовище в эту минуту звучало, как похоронный звон среди веселого свадебного пира. Сердились не столько на „радикализм", сколько на „безтактность": что бы подождать минутку?

Со времени „Молодой Россiи" у нас можно говорить о революционном социализме. Он был налицо — и скоро засвидетельствовал себя поступками: покушение Каракозова на Александра II, 4 апреля 1866 года, надолго осталось типом революционной борьбы в России. И тем не менее, вопреки всеобщим мрачным п р е д в и д е н и я м, и николаевских министров, и буржуазной публицистики, и „честнаго кузнеца гражданина" и с его друзьями — никаких следов ужасного; „рабочаго сословiя" в революционно-социалистических выступлениях найти было нельзя. Революция продолжала держаться в том кругу, куда ее перенесли петрашевцы — только помолодела: там были „учителя, доктора, попы, отставные небогатые чиновники", здесь „сыновья мелкихъ помещиковъ, чиновниковъ, священниковъ" (воспоминания Дебагория-Мокриевича о киевском студенческом движении конца 60-х годов). Студенчество на двадцать лет осталось той питательной средой, из которой набиралась соков русская революция: в глубоких слоях народной массы до наших дней „студентъ" и „революцiонер" — синонимы; монархически настроенные рабочие перед 9 января боялись, как бы к ним не пристали „студенты", и не исказили затеянной ими мирной верноподданнической манифестации — а крестьяне Воронежской губернии еще в июне 1906 года ждали „стюдентовъ съ пушкой", чтобы произвести последнюю атаку на своего помещика. Вся эта молодежь, своим образом жизни, была сплошным отрицанием „буржуазности". „Мы были бедны и едва-едва перебивались, но в то время студент почти гордился бедностью" рассказывает тот же, выше цитированный нами, автор. „Бедность была некоторым образом в моде, составляла своего рода шик. Если у кого даже и имелись средства, то это не показывалось, так как на это смотрели не хорошо". Студенты московского университета начала 60-х годов — непосредственные современники „Молодой Россiи" — нередко приходили держать экзамен пешком „из отдаленныхъ губернiй"; в частности, „большинство поляков и уроженцев западных губернiй въ московскомъ университете отличались крайней бедностью" (Ешевский). Конец периода не отличался, в этом случае, от начала: Г. В. Плеханов, ведший революционную пропаганду среди петербургских рабочих 70-х годовъ, „с удивленiемъ увиделъ, что эти рабочiе живутъ нисколько не хуже, а многiе изъ нихъ даже гораздо лучше, чемъ студенты... Холостые,
а они составляли между знакомыми мне рабочими большинство, могли расходовать вдвое более небогатаго студента... Bсе рабочие этого слоя одевались несравненно лучше, а главное, опрятнее, чище нашего брата студента".
Но быть беднее иного пролетария еще не значит быть пролетарием самому: к пролетариату, как социально-экономической категории, даже беднейшие из русских студентов 60-хъ— 70-хъ годовъ все-таки не принадлежали. Это были типичные интеллигенты, то есть, прежде всего, типичные одиночки. Когда А. Д. Михайлов прочел своим товарищам землевольцам, составленный им проект устава тайного общества, требовавший, между прочим, безпрекословного подчинения отдельного члена „распоряженiямъ большинства", этот параграф встретил „не малую оппозицiю", по словам современника-очевидца. А террористический актъ требовавший максимального л и ч н о г о героизма, оставался, весь этот период, последним революционным жестом, от которого ждали pешения судьбы России. И эта вера в то, что перемена лица может что-то изменить в п о р я д к е, что борьба с царизмом есть борьба с царем, — что, убив царя, можно вызвать возстание против царизма, эта вера вновь заставляет нас вспомнить петрашевцев, один из которых,с полной искренностью, все, что было худого в России, даже голод витебских крестьян, относил на счет личного влияния императора Николая Павловича. „Какъ странно устроенъ Светъ, одинъ мерзкiй человекъ, и сколько онъ можетъ сделать"!
Для революцюнного штаба такого социального состава бакунинский анархизм, которому
даже образование временного революционного правительства казалось уже „вырожденiемъ революции", был наиболее подходящей идеологией. Бакунин и оставался духовным вождем революционного движения почти до самого конца этого периода —Лавровъ былъ более его теоретиком, нежели лидером; „Историческiя письма", правда, многих побудили „пойти въ народъ": но что делать среди этого народа, учились по большей части не у Лаврова.
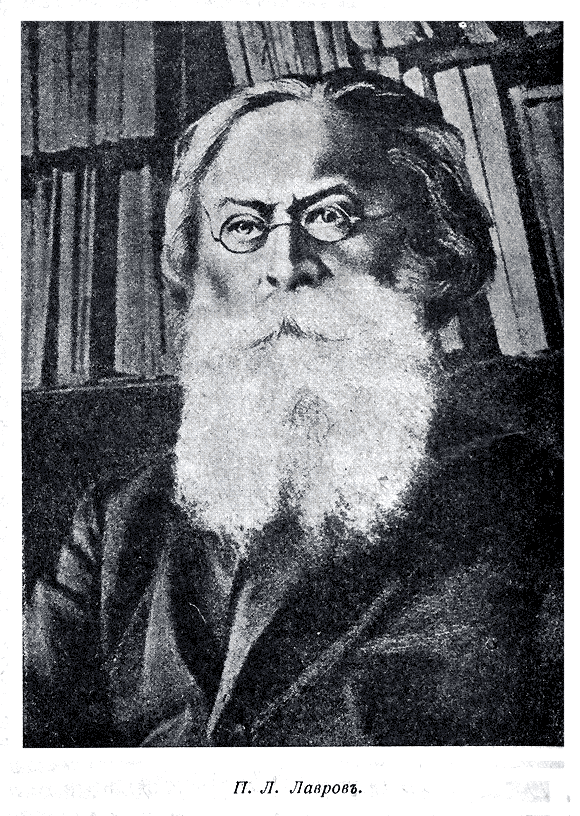
И явно политическая цель всего движения — оно несомненно упиралось в низвержение самодержавiя все время, сознавалось это его деятелями или нет: заявление (на суде) В. Н. Фигнер, что целью народовольцев было „уничтожение абсолютистическаго образа правленiя", в сущности, одинаково приложимо и к землевольцам, и к „чайковцам", и к нечаевцам, и к каракозовцам, и к тем студенческим кружкам, откуда вышла „Молодая Россiя" — мирилась с анархической идеологией, потому что никаких других средств борьбы, кроме анархических выступлений, под руками не было.

Русскому революционеру времен Александра II на практике приходилось быть анархистом, если он не хотел быть революционером только на словах: в чем злые языки и упрекали „лавристов", а позже „чернопередльцев", противников анархического метода действий. В те времена модными были разговоры о „героях и толпе": революционеры 60-х—70 годов были героями без толпы, и это лишало их героизм всякого практического значения. При других условиях, судьба таких исключительных людей, как Желябов, Кибальчич или Перовская была бы, быть может, не менее трагична: но это был бы трагизмъсудьбы Робеспьеров и Сен-Жюстов — гибель тех, у кого было великое „вчера", а не тех, кому всю жизнь пришлось прожить
„накануне".

И если пролог великой российской революции утонул в предразсветных сумерках, виною тут были не те или другие „ошибки", тех или других „вождей", а то, что этим вождям некого было за собою вести. Крестьянство насмерть разбило иллюзии тех, кто жил революционным романтизмом разинщины и пугачевщины — не имея понятия о действительной их идеологии. Лишь годами горького опыта пропагандисты приходили к выводу, не без жестокости к самому себе резюмированному одним из них. „Царизмъ являлся въ самой тесной связи съ земельнымъ идеаломъ крестьянъ. Свои желанiя, свои понятiя о справедливости крестьяне переносили на царя, какъ будто это были его желанiя, его понятяi". И единственное массовое движение крестьян в 70-х годах удалось вызвать, как известно, только при помощи подложного царского манифеста (т. наз. Чигиринское дело).
Под конец — этот именно конец и заставляет ограничивать бакунинское влияние в террористическом периоде русской революции словом „почти" — даже буржуазия начинала казаться более надежным союзником, чем крестьянство. Но какою ценой приходилось покупать этот „союз"! Уже тотчас после воронежского съезда 1879 года, едва возникла „Народная Воля", Желябов рекомендовал товарищам не писать больше об аграрном вопросе, „дабы не отпугивать либералов". А весь социализм тогдашних революционеров был аграрным... Слово „республика" в народовольческой программе, как известно, вовсе обойдено, из тех же соображений: через пятьдесят лет после декабристов оно звучало в буржуазных ушах слишком страшно. Но буржуазии этого было мало — и она стала уговаривать „Исполнительный Комитет" отказаться еще и от террора, т. е. от единственного оружия революционной борьбы, которое оставалось еще у революционеров-интеллигентов. Причем взамен ничего не предлагалось, повидимому. У народовольцев были связи между офицерством. „Желябов завел обширные знакомства съ профессорами артиллерiйской академии, разными техниками, офицерами разныхъ специальностей", рассказываетъ о лидере Народной Воли один из его приятелей. Существовал ряд офицерских кружков, стоявших под народовольческим влиянием: после 1 марта 1881 г. — которое эту среду не оттолкнуло от „убiйцъ" Александра II — члены этих кружков оптимистической революционной статистикой считались сотнями. Между ними были выдающееся люди, какъ М. Ю. Ашенбреннер — но не нашлось ни одного, кто мог бы предложить в распоряжение революции не то, что полк, а хотя бы роту. Солдаты и тогда оставались крестьянами, одетыми в мундиры. Все эти военные связи были, притом, приобретением самих народовольцев: буржуазия и тут им ничем не помогла. А читая интимные, по секрету подававшиеся начальству, „записки" тогдашних буржуазных либералов, правых, как Чичерин — и даже не черезчур правых, как Градовский — перестаешь даже понимать, чего больше хотели эти люди: упразднения самодержавия или самоупразднения революции? Для Чичерина последнее, несомненно, стояло на первом плане — и он готов был даже зачеркнуть „само", предлагая для упразднения революции непосредственно либеральные руки.

XII. Царизм и пролетариат.
А между тем, как раз в эти последние годы призрак, смущавший сон еще Канкрина, начинал воплощаться. Бессильные в деревенской среде революционеры-интеллигенты встречали совсем иной прием среди тех крестьян, кого нужда загнала на фабрику. Уже „чайковцы" начала 70-х годов имели кружки среди петербургских ткачей — а пропаганда среди металлистов началась едва ли не еще paнеe. Московские пропагандистки (так наз. „процесса 50") работали над тем же материалом — с неизмеримо большим успехом, чем их товарищи в дepeвне. Петербургские стачки зимы 1877—78 гг. впервые поставили революционную интеллигенцию лицом к лицу с массовым рабочим движением. Воспоминания современников сохранили любопытннейшие черты первых встреч. Новые знакомые не без осторожности присматривались друг к другу — и первые шаги революционной агитации в рабочей массе Петербурга переносят нас очень далеко не только от социалистических или республиканских, но даже от конституционных лозунгов: на первых порах не нашли ничего лучше как посоветовать забастовавшим подать прошение наследнику... Прием, быть можетъ, был и правильно рассчитан — на серую массу, но петербургские рабочие скоро сумели показать, что они не все там „серые".
Уже в январе 1879 года на лицо была программа „Cевepного Союза русских рабочих", считавшего, правда, всего 200 членов — маленький авангард даже для одного Петербурга: но за то этот авангард ушел чрезвычайно далеко от прошений наследнику. Характерно, что выступить прямо против царизма и самые передовые рабочие России не решились — а о Христе и апостолах нашли нужным упомянуть. Но этим и ограничивается дань „традиции": дальше мы находим в программе „Союза" свободу слова, печати, собраний, сходок, передвижения, отмену косвенных налогов, замену постоянной армии милицией... Картина настолько „европейская", что начинаешь понимать подозрения читавших — и опубликовавших — ее революционеров-интеллигентов: а подлинно ли все это писали настоящие рабочие? Правда, что рабочие были, если и „настоящие", то не совсемъ обыкновенные: из двух лидеров „Союза", Обнорский бывал за границей, Халтурин скоро сделался одним из выдающихся народовольцев. Между вчерашними „учениками" и „учителями" загоралась даже полемика — об этом придется еще говорить на страницах, специально посвященных рабочему движению. В общем ходе революции главным новшеством „Союза" была идея массовой организации. „Союз" ставил своею целью „сплачивая разрозненныя силы городского и сельскаго рабочаго населенiя и выясняя ему его собственные интересы, цели и стремленiя, — служить достаточнымъ оплотомъ въ борьбе съ соцiальнымъ безправiемъ и давать ему ту органическую внутреннюю связь, какая необходима для успешнаго веденiя борьбы". Революционная интеллигенция как раз в эту пору мучилась над вопросом: обязано меньшинство подчиняться большинству, или может „отказаться"? Правда, и она была накануне положительного решения этого вопроса — и народовольцы ввели у себя железную дисциплину: но как тесен был круг лиц, согласившихся под иго этой дисциплины пойти!



„Северный Союз" оказался ласточкой, прилетевшей слишком рано и осужденной замерзнуть. Революционные рабочие кружки дали солдат террористической, интеллигентской революции: взорвавши зимний дворец Халтурин и Тимофей Михайлов, один из участников 1-го марта, оба погибшие на царских виселицах, были из первых мучеников борьбы русского народа против царизма.
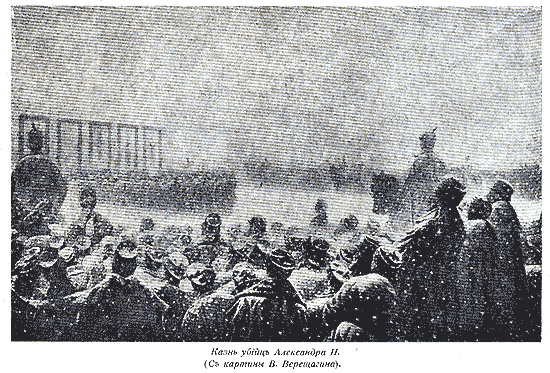
Когда черносотенцы пытались втолковать массам, что Александра II убили „господа", они сознательно лгали. Но успех, хотя бы и кратковременный, даже такой грубой подделки под рабочее движение, какой была Зубатовщина, ясно показывал, насколько наивны были массы. Еще накануне 9-го января рабочие пугливо сторонились „господ" — во образе социал-демократов и социалистов-революционеров. Теперь, однако, и массу отделяла от революции очень тонкая перегородка. Накануне крестного хода к зимнему дворцу, на одном собрании, nocле чтения „петиции", председатель, рассказывает очевидец, задал рабочим вопрос: „А что, товарищи, если государь нас не примет и не захочет прочесть нашей петиции — чем мы ответим на это? — Тогда, точно из одной груди вырвался могучий потрясающий крик: нет тогда у нас царя! И как эхо повторилось со всех концов: „нет царя... нет царя!"
На другой день вечером, после расстрела, „выступили ораторы изъ социал-демократов", рассказывает другой очевидец: „их слушали теперь"...
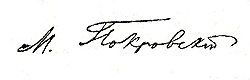
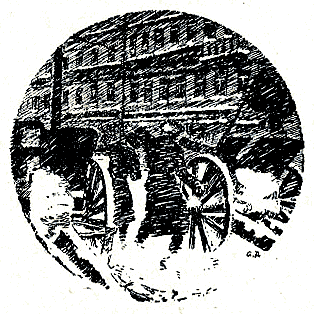
ПРОДОЛЖЕНИЕ: Крушение "Народной воли" (прив.-доц. В.М.Фриче)
|