ГЛАВА РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ
Истоки этой книги — Путешествие по предгитлеровской Германии, а также по Австрии и Дании с чтением докладов на тему о советском писателе и колхозном движении.
Новизна всего видимого потрясала.
Страна резко выраженной индивидуальности обрушивалась на внимание путешественника подобно рассыпанному шрифту. Его надо было собрать и уложить в слова.
Каждый город был особенный, он проходил сквозь воображение, влача на шлейфе окаменелую историю.
Я торопился увидеть возможно больше, и это было почти болезненно.
Сначала шли вещи, пейзажи, происшествия, встречи, анекдоты, эпизоды.
Вещи запоминались подряд. Бумажные стаканы для молока и саженые леса, такие обильные, что, казалось, вся Германия живет в лесу. Спектакли светореклам на берлинских фасадах и насыщенность страны железом. Табачный воздух подземки и цикорная атмосфера комнат. Кельнский собор, затерявшийся шпилем в облаках и стоящий так близко к вокзалу, что среди молящихся неиссякаема шеренга людей с чемоданами в руках, забежавших на время стоянки поезда взглянуть на чудовищные стволы колонн, послушать гудящее мрачными каменными просторами эхо церковного хора.
Удивляли светофоры, нержавеющая сталь и плодовые деревья вдоль проселков.
Сейчас это у нас все есть, но то был 1930 год.
Самыми вежливыми людьми были лавочники. Покупателю уготована была нежность не ниже материнской.
Пустыри в Берлине были разгорожены железными сетками на вольеры, как в зверосовхозах. Внутри вольер были грядки и крохотные беседки. Это заменяло дачу. В воскресенье тут сажали цветы и играли на гитаре, воображая, что они одни на лоне природы, хотя в полуметре другая семья так же рылась в гряде и играла на гитаре.
В ресторанах целовались на полном виду так же непринужденно, как если бы то было в глухом лесу.
Счастье каждого было его частным делом. Но и несчастье каждого было тоже его частным делом. Это пытались изменить безработные пролетарки в предрождественские дни. Они стали стеной перед универмагом и не пропускали состоятельных матерей:
— У нас не на что купить детям подарки! Пусть и те остаются без подарков!
Их расшвыряла полиция.
Так вещи стали оборачиваться парадоксами.
В парадоксах рождались первые силуэты литературных тем.
Каменным дредноутом стоит в Вене средневековый собор святого Стефана. В его трюмах проводник с факелом (ни в коем случае не с электрическим фонариком) водил вдоль решеток, за которыми черепа похороненных здесь жертв чумы. От рассказов об этой чуме у спутниц темнели глаза, и они жались к соседям, желая скорей наверх, на улицы.
Там, наверху, бесшумно бесновалась другая чума, бестемпературная, но не менее губительная,— кризис. От нее таяли люди, сгнивало умение, тускнели глаза.
От этой чумы умирали заводы, а люди вылетали на улицу.
В соборе были две чтимые иконы. У одной теснилась очередь. Здесь просили о ниспослании благодеяний. К другой иконе приходили благодарить за исполнение мольбы. Там стояли единицы.
Небо было трудно расшевелить. Не легче, чем покупателей.
Над магазинами затейливые рекламы визжали электрическим визгом — неоновым, аргоновым, ртутным:
— Купите, ну купите же!
Человек стоял на панели перед витринами. Он был молодой и аккуратный. На груди его висел плакат: «Беру любую работу».
Вдоль пустых причалов Гамбурга подъемные краны подняли в небо железные руки.
На углах дежурили злые, в синяках, проститутки, голодные, готовые драться за клиента.
А через улицу в писчебумажной лавочке сидел этот клиент. Молодому, стесняющемуся матросу ласковая старушка, хозяйка магазина, медленно листала альбомы оголтелых порнографических фотографий.
Некоторые парадоксы родились из предрассудков, с которыми я приехал.
Я думал, что республика — это значит вытравление всего, что связано с предыдущим режимом, с императорщиной.
Но в названиях берлинских площадей, улиц, парков, дамб, мостов жирно жила императорщина.
В республиканском Берлине было десять Кайзерштрассе*, девять кайзер Фридрих и четырнадцать кайзер Вильгельм,— всего пятьдесят семь объектов начиналось словом «кайзер».
* «кайзерштрассе» - улица кайзера. «кайзер» - император (нем.)
Тридцать два места несли в себе слова «кениг»*, тридцать два — Вильгельм, семнадцать — Гогенцоллерн.
* «кениг» – король, королевский – прим. ред.
Социал-демократы были решающей партией в Германии. Полицей-президент Берлина был социал-демократ. Социал-демократы называли себя «марксистами». Улицы Маркса в Берлине не было.
В кулуарах рейхстага мне показали благообразного старичка с лебяжьим пухом усов и бородки — Шейдемана*. Меня даже качнуло. Я думал, он давно умер. Я думал, это имя осталось в мире только в качестве стыдного ругательства.
* Шейдеман – один из лидеров социал-демократической партии Германии.
Вплотную социал-демократов я видел в эссенской пивнушке в дни карнавала. Ожиревшие люди сидели за пивом, в знак веселья надев на головы бумажные ермолки со смешными надписями. Над стойкой буфетчика был лозунг: «Мне это все равно, бедняк ты иль богач».
Легально нищенствовали на улицах слепцы, отмеченные желтой повязкой на рукаве. Их водили овчарки. Остальным нищенство было запрещено. В обществе торговцев просить нельзя, торговать можно.
Люди, зачастую молодые и широкоплечие, «торговали» коробками спичек. Им изредка протягивали монету, спичек не брали.
Панели были чисты, как мозаичные иконы. Единственная грязь — собачье дерьмо.
Культ собак напоминал о Монголии. Только там собака — соратник пастуха, а здесь собака — замена ребенка в экономически ущемленной семье.
Каждая такса — вглядитесь внимательно — это только искривленный, поставленный на четвереньки лопоухий, лающий, неосуществленный человеческий детеныш. Он меньше ест, чем настоящий, не требует нянек и школы, не расходует на одежду, не создает трудностей для вселения в приличную квартиру. Он не взрослеет, не дерзит. Правда, живет недолго, но зато способен поглотить весь запас нерастраченного родительского инстинкта.
Я видел витрины собачьих магазинов: там были собачьи кровати и попонки, искусственные кости из мастики и объявление об уходе за когтями. На собачьем кладбище могилы псов покрывали мраморные доски барельефами. «Мой Бубби»,— говорила надпись под эмалевой фотографией мопса. Цветы не увядали здесь. На некоторых могилах были даже кресты.
Владелица кладбища рассказывала мне о красоте человеческого горя и осведомлялась самолюбиво, чем отличается знаменитое копенгагенское кладбище от ее.
Таков был парадокс о собачьей жизни.
А на другом конце города, в лесу, за колючей проволокой, под осыпью перепрелых листьев бугрилось кладбище самоубийц. Здесь не было ни цветов, ни крестов, ни хозяев. Здесь были только дощечки с номерами. Наблюдателю предоставлялось догадываться, какие трагедии в могилах широкого образца, на дощечках которых стояло две, а то и три цифры.
Настоящей «собачьей жизнью» здесь была человеческая.
Сторож на гамбургской колокольне подсчитывал мне бросившихся через парапет в сизый воздух уличного ущелья.
Комсомольцы в Веддинге* объясняли, как семьи, травившие себя газом, вывешивали клетку с канарейкой за окно, чтоб не отравить заодно птицу.
*Веддинг – название одного из районов Гамбурга.
Комсомольцы были бледные от недокорма, но гордые и боевые.
Это они писали по асфальту улиц дерзкие большевистские лозунги.
Комсомольцы брали мою руку и клали на свои гладко причесанные головы: это они хотели, чтобы я прощупал шрамы от фашистских ножей.
Комсомольцы ходили воскресными утрами с гитарами по дворам, собирая на стачечников. Тогда рабочие были дома. Заметив полицейского, разбегались.
В воскресное утро играть по дворам законом запрещалось, ибо в эти часы в кирхах шла служба.
В сторожко запертых квартирах активистов крутились ротаторы, печатая квартальные газеты. На газетах были серп, молот и пятиконечная звезда.
Оторвавшись от печатания, рассказывали повесть о красном флаге, который за ночь был повешен смельчаком на фабричной трубе, а наутро снят блюстителями порядка с величайшим трудом.
Думаю, что повесть об этих флагах войдет в эпос пролетарской революции.
Пролетарки, шелушившие картофель на подоконниках комнат по Кеслинерштрассе, рассказывали гордо, что улица их в революционные праздники становится красной от обилия плакатов и флагов, вывешенных в окнах, и что на их языке Кеслинерштрассе называется Баррикаден-штрассе — здесь были самые стойкие баррикады в мае 1929 года.
Я видел эти баррикады, но в разобранном виде: они стояли на углах улиц афишными трибунами и ящиками у овощных лавок, они пока что громыхали по рельсам желтыми трамвайными вагонами.
На первомайскую демонстрацию пролетарии окраин шли грозно, обильно, мужественно, сквозь ущелья полицейских броневиков, ждавших лишь минимального повода, чтоб ринуться бить, мять, гнать.
Нельзя было агитировать, поэтому на плакатах писали фактические справки, например:
«Прошлый год дал Германии 790 тысяч новых безработных и 29 новых миллионеров».
Нельзя было выкрикивать что-либо по адресу правительства, поэтому молча несли на шестах портреты товарищей, убитых за год, и поворачивали их лицом к полицейским кордонам.
С грузовика говорил Тельман. Энергичный кулак его взлетал над трибуной, видный далеко.
Десятки тысяч, стянувшиеся в сквер Люстгартен, пели суровым хором
Весь мир насилья мы разроем
До основанья, а затем...*
* - строчки из песни «Интернационал»
Но демонстранты аккуратно теснились на дорожках, не осмеливаясь переступить на просторные газоны. Газонами пробегали лишь санитары с носилками, когда в мучительной тесноте дорожек кто-нибудь падал без чувств.
Страницы коммунистических журналов были полны фотографиями убитых фашистами. В этом было слишком много жалобы на обиду. Это сгущало скорбь, но вряд ли заостряло боевое напряжение.
Это напоминало Китай, где после расстрела делегаций студенты проносили городом окровавленные одежды товарищей и взывали об отмщении к хмуро стоявшей панелями разнокалиберной толпе.
Полуарендаторы-полубатраки в восточнопрусском поместье показывали мне свои комнаты, мощенные булыжником, и огороды, залитые непросыхающей водой. Они бастовали терпеливо и безнадежно. Из всего мира о них вспоминали только коммунисты ближнего города. Они раскрывали передо мной язвы жизни своей и жаловались громко и уверенно, точно я был комиссар, присланный на расправу с их обидчиками.
В Вене на докладе о колхозах аудитория кричала:
— Спасите нас и весь земной шар! В этом крике было отчаяние.
Но в этом крике был и изумленный восторг перед пятилеткой, которая восходила, как чудо, на небе Европы.
Пусть ее оплевывали, лягали, поносили, но она была убедительно неотвратима.
Немецкие мелкие крестьяне задыхались в долгах и чересполосице.
Были селения, состоявшие из восьмисот полей по полгектара. По вычислениям профессоров, крестьянин в год работал 3500, а крестьянка 3720 часов, то есть больше десяти каждый (каждый!) день. И все равно, нельзя было подняться.
Тогда буржуазный профессор Мюнцингер решил устроить опытно-показательный колхоз, не устраивая революции.
Село нашли с громадным трудом. В нем было десять хозяйств. Им обещали построить ресторан, машинную станцию, баню. Они согласились сложить землю. Но под межами они зарыли камни, чтоб не спутать, когда придется межеваться вновь.
Рабочие, толкуя о Советском Союзе, говорили «Дрюбен». Это значит: «По ту сторону».
Советский союз стоял во весь рост, неотвратимый, ненавистный одним, изжажданный другими.
В вагоне поезда, идущего на Нюрнберг, молодая девушка пыталась угадать, какой я национальности. Перебрав все страны — Чехию, Польшу, Румынию, Скандинавию, она дошла до финнов. И, получив отрицательный ответ, сказала горестно:
— Тогда я не знаю. Там дальше ничего нет...
Тут кончался ее мир. География капитализма была куцая, как география Страбона.
Фашисты стреляли из-за угла в коммунистов. В баронских замках и на городских квартирах появлялись склады их оружия. Сыновья провинциальных лавочников, а то и просто неустойчивые юнцы, ошалевшие от безработицы и бесперспективности, нацепляли значок со свастикой, впивая наркоз субординации, буйный наркоз, не менее отшибающий мозг, чем кокаин.
Штатские люди офицерской выправки руководили ими.
На фашистских собраниях устно линчевали евреев.
Старый российский охотнорядский громила, в бороде и поддевке, воскресал здесь в людях, кичащихся крахмалом воротничков, национальным духом и лучшей в мире техникой.
Атака фашистов на ненавистников войны была яростна. В кино на Ноллендорфплатц истерично визжала аудитория, когда выпущенные фашистами ужи и белые мыши стали забиваться присутствующим под платья. Там шел фильм по Ремарку «На Западе без перемен».
Такова была (очень, конечно, летуче) эпизодика тогдашней Германии.
И люди этой книги, прежде чем во весь рост войти в сознание, были лишь деталями эпизодов.
Эйслер возник в связи с мелодией, которую на улицах комсомольский оркестр высвистывал на флейтах. Хороший инструмент флейта, незаменим в уличном стычке. Драться гитарами куда хуже.
В истеричном протесте зрительницы фешенебельного театра против непривычной пьесы впервые я почувствовал, что такое Брехт.
Вольф явился в овациях двадцатитысячной аудитории Спортпаласа, протестовавшей против параграфа 218.
Расхохотавшиеся около вывешенного газетчиком нового журнала «А.I.Z.», веддингские рабочие дали мне понять, что такое Хартфильд.
Во взволнованных сообщениях молодых датчан о неприятности, причиненной германскому посольству, я почуял первый абрис Людвига Ренна.
Мельковая встреча перешла в знакомство, в товарищество, дружбу и, наконец, совместную работу, когда помогаешь, учишься, оспариваешь, наводишь на мысль, подражаешь, советуешь.
Эпизодика поездки дала мне как бы поперечный разрез предгитлеровской Германии. Связь с зарубежными работниками коммунистического искусства, в основном с немцами, дала мне гораздо больше, потому что жизнь этих людей вплетена продольными волокнами в историю Германии последних двадцати — двадцати пяти лет.
А жизнь у этих людей — почти без исключения мужественная, трудная, творчественная, боевая.
Этой жизнью как бы зондируешь историю.
Приглядываясь к их жизням, понимаешь, в какой обстановке складывались эти люди и, в свою очередь, как работа этих людей изменяла и изменяет жизнь.
Литературные портреты, собранные в этой книге, начались давно. Люди приезжали к нам, мы читали их книги, до нас доносились вести об их делах. Хотелось познакомиться с ними ближе,— значит, надо было, хоть в нескольких словах, «представить» их нашей аудиторий.
Так возник газетный портрет-молния, по необходимости краткий, сделанный из наиболее выразительных эпизодов-анекдотов, опирающийся на наиболее контрастные выдержки из работ.
Но раз вызванный аппетит на человека был уже неудержим. Хотелось вглядеться пристально в его жизнь и горения, вчитаться внимательней в книги, вглядеться в рисунки и спектакли.
Хотелось рассказывать о них медленнее. Так возник литературный портрет журнального типа. Где-то на творческом горизонте забрезжил уже облик портрета-повести.
Так до сих пор я не оставил мысли написать большую биографическую повесть «Джонни», о Д. Хартфильде. Назвать литературно-критическими этюдами эти вещи нельзя.
Критика обычно говорит о вещи отдельно от того, кто эту вещь создал.
А я характеризовал основное каждого человека — его биографию, в которую все им написанное, нарисованное, сработанное входит лишь как частность, как выражение его характера, как его манера биться за свои принципы, как общественное оправдание его личного существования.
Право же, любое приключение в жизни человека есть отрывок какой-то ненаписанной повести, а гневный абзац его романа не менее пламенен, чем взволнованный румянец на его щеках.
Произведение искусства получает особенную силу там, где оно приобретает звучание человеческого документа, то есть становится ответственным куском человеческой биографии.
Зачастую связь между произведением и биографией очень тонка. На первый взгляд кажется, вещь отстоит от биографии чрезвычайно далеко, но вслушайтесь внимательно, и вы учуете звучание биографических обертонов за строчками.
И разве не высшее счастье и не совершеннейшее достижение у человека, когда его личная жизнь не только заплетается натуго с жизнью общественной, биясь одним пульсом с нею, но и становится пружиной этой общественной жизни, обнаружив в себе ведущие качества, оказывается типичной.
Люди, чьи портреты даны в этой книге, — это бойцы одного коммунистического фронта. Они разными путями пришли и стали в ряды.
Большинство из них интеллигенты, промежуточники, люди, которым надо было покинуть класс, их породивший и воспитавший, и прийти к классу-творцу через страшное плавание по хлябям индивидуализма, анархизма, беспринципности, через плавание, быть может, более страшное, чем проделанное Колумбом, когда он оторвался от старого материка, чтобы найти Новый Свет.
И несомненно, многие из описанных мною биографий перекликаются с собственной моей биографией, устанавливая однотипность положений и похожесть путей для людей на разных точках нашей планеты, но несомых одинаковыми социальными потоками.
Фашистский костер, на который свалены были произведения этих людей, создал особо напряженное чувство кровного братства.
Мне думается, нет большего почета сейчас, чем чувствовать себя в числе людей одного костра.
Я писал только о людях, которых знал лично. В книге отсутствуют многие, которые в ней должны были быть: это Э. Э. Киш, это Э. Толлер, это Э. Вайнерт, Л. Ренн и другие.
Когда я свел написанные портреты в книгу, меня самого поразило, до какой степени тесно переплетены эти разные люди друг с другом. И не столько даже эпизодами личной биографии: трудно ли встречаться на литературных перекрестках? Нет, мне показалось, что у них есть общее, быть может, даже самими ими не осознанное качество, характеризующее искусство первого десятилетия после мировой войны.
Для них всех характерен поиск эпоса. Поиск большого искусства, экстрагировавшего действительность и претендующего на всенародное воспитательное влияние.
Действительно, эти работники искусства вырастали в эпоху экспрессионизма. То было идеалистическое искусство, считавшееся лишь с воспаленным миром субъективных переживаний творца. Война ткнула этих людей носом в самую отвратительную мерзость капиталистической действительности. Они возненавидели искусство-наркотик, искусство-флёр. Они потребовали большой и подлинно человеческой идеи, способной переделывать жизнь. Это привело их к коммунистической партии. Они стали строить искусство глубоко объективное и материалистическое. Искусство о действительности. И не только о действительности, но и такое, которое способно было эту действительность переделывать.
Эпос библии, рабовладельческий и феодальный эпос был эпосом консервативным. Он управлял сознаниями, оберегая действительность в ее религиозной незыблемости.
Народные эпосы выдвигали фигуры героев недосягаемых, а потому подлежащих обожествлению.
Пролетарская революция требовала эпоса, который помогал бы не окаменять, но, наоборот, изменять действительность.
И героика этого эпоса должна была быть достижимой каждому из творцов новой жизни.
Элементы эпоса сегодня есть в газетной информации, в приказах начальников революционных боев, в предсмертных восклицаниях расстреливаемых революционеров, в резолюциях о постройке величественнейших сооружений руками рабочих, которые в то же самое время являются хозяевами жизни.
Эпическое в том, что мы для каждой случайности ищем объяснений в устойчивом и закономерном и социальный толчок в одной точке земного шара расшифровываем как итог гигантских и медленных сдвигов, происходящих во всем мире.
Наш эпос активен, публицистичен. Он не просто «повествование о», не просто информация, он — информация сознательно направленная.
Пискатор ищет эпических формул, строя политический театр, всегда агитативный.
Брехт создает эпическую драматургию в борьбе с эмоциональными наркотиками субъективистского искусства предыдущей эпохи.
Публицистическая драматургия Вольфа, всегда конкретного и демонстративного, перекликается с фотомонтажами Хартфильда, который ищет объективного уже в том, что отказывается от субъективного произвола, заложенного в художническом мазке или линии; он берет исходным элементом своих работ фотографию — наиболее объективного из всех доступных нам форм запечатления действительности.
Документ — вот исходный строительный материал для одних из этого поколения.
Монтаж — способ такого сцепления (сопоставления, противопоставления) фактов, чтоб они начали излучать социальную энергию и скрытую в них правду.
Упор на объективное характеризует этих.
Таковы Пискатор, Эйслер, Хартфильд, Вольф, Брехт. Их творческое внимание всегда вне их собственной внутренней жизни — о ней можно судить лишь по косвенным признакам в их творчестве.
И есть иные. События, из которых они строят эпос, уже даны, единственны, детерминированы,— это события их собственной биографии.
Таковы Граф, Ренн.
Их повесть — это не просто цепь фактов. Это факты, ставшие плотью и кровью, радостью и страданием, эмоцией и мыслью, факты, которые человек проверял на себе и на которых проверял себя. Мы не найдем, быть может, в этих повестях монтажа документов, но сами повести их — это человеческие документы. И монтаж этих документов с прочими кусками действительности есть уже не литературное произведение, а сама жизнь.
Может быть, уместен термин «лирический эпос». Это означает, что приказ, отдаваемый действительности, может быть совершенно убедительным лишь в том случае, если он будет окрашен глубочайшей личной заинтересованностью автора, его большой субъективной напряженностью, если вопрос правоты или неправоты будет проверяться на таких весах, как человеческая биография, единственная и неповторимая.
Когда вспоминаешь биографические книги, как «На Западе без перемен» Ремарка, как «Война» Ренна, как «Мы в ловушке» Графа, то кажется, присутствуешь при титаническом бое, где люди бьются не тезисами и аргументами, не клинками мечей, но самими жизнями своими.
11 июля 1935 г.
Книга С.Третьякова "Люди одного костра" была издана в СССР в 1936 году, но уже год спустя после ареста и расстрела автора была изъята из библиотек как и другие произведения С.Третьякова.
Мы приводим текст по сборнику С. Третьяков "Страна-перекресток", изданному в 1991 году.
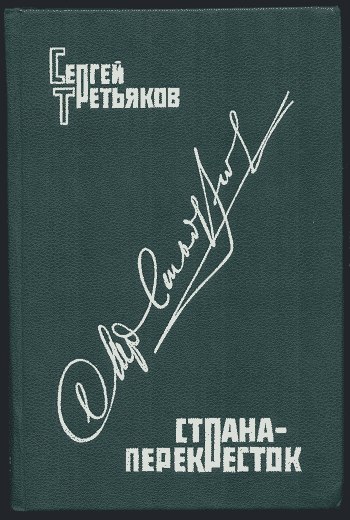
Кроме того в этот раздел сайта включены материалы из сборника "Верните мне свободу!"
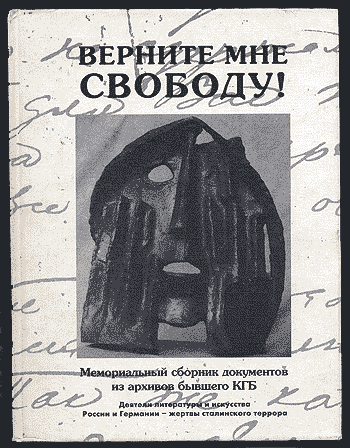
продолжение - ДЖОННИ