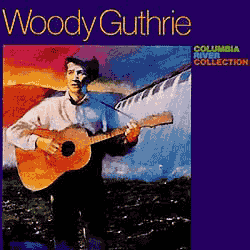ТЕЛЕГРАММА, КОТОРАЯ НЕ ПРИШЛА
В излучине Сакраменто стоит Реддинг, штат Калифорния.
Разнесся слух, будто для строительства плотины Кеннет-Дам нужны две с половиной тысячи рабочих, и восемь тысяч рабочих уже прибыли туда. Реддинг напоминал сошедший с ума муравейник. Милей севернее, на повороте железной дороги, возник лагерь - разросшееся гнездо, в котором поместились две тысячи людей; мы назвали этот лагерь «джунглями». Летом 1938 года я кое-что узнал о жителях Реддинга, но несравненно больше – об этих джунглях, где люди жили так близко к природе и так далеко от всего естественного, как это только возможно.
Я приехал в Реддинг рано утром на длинном товарном составе, переполненном измотанными людьми. Соскочив с поезда с гитарой на плече, я спросил одного парня, когда начнутся работы. Он ответил, что они должны были начаться еще в прошлом месяце. Телеграмма из Вашингтона еще не пришла.
- В прошлом месяце, черт бы их подрал, - сказал другой парень. - Мы сидим в этом проклятом болоте уже три месяца, и каждый божий день только и слышим, что вот-вот будет работа.
Я посмотрел на поезд и увидел по крайней мере сто человек, которые выпрыгивали из вагонов со своими узелками, с постелью и прочим барахлишком. Высокий мрачный парень в коричневой фланелевой рубашке, с которым я разговаривал, сказал:
- Вот так на каждом поезде прикатывают все новые люди.
- Откуда берется столько народу? - спросил я.
- Некоторые из них просто подонки, - сказал он. Сводники, бродяги, проститутки, мошенники всех видов. Но их, в общем, не так уж много. Можешь поговорить с двадцатью, и девятнадцать из них наверняка просто хотят и могут работать, как все, у них хорошие руки, все на свете они перевидали и где только не побывали в поисках постоянной работы. Найдя ее, они привезли бы туда всю свою семью и осели бы наконец.
Стояла невыносимая жара, и некоторые из прибывших направились через пустырь к главной улице. Но в большинстве своем они были слишком грязны, слишком измучены и оборваны, чтобы проводить время на улице. Они не собирались остановиться в гостинице или даже в ночлежке за двадцать пять центов или хотя бы поваляться на чьем-нибудь зеленом газоне - нет, они медленно двинулись через невысокий холм к «джунглям». Там они стали спрашивать старожилов, где найти колодец, где мусорная свалка - там можно подобрать жестянки и что-нибудь сварить, где ловится рыба, нет ли у кого бритвы, которая не нужна.
Я стоял на железнодорожной платформе и рассматривал свою старенькую рубашку. Я думал: ведь наверняка у какого-нибудь здешнего лавочника есть дочка, которая, должно быть, побаивается всех этих мрачных типов, но если я сейчас проявлю расторопность, заработаю пару долларов и куплю себе чистую рубашку, она, может быть, и поговорит со мной немного. Ведь насколько все бывает по-другому, когда одетый во все новое, ты прогуливаешься по улице; даже легавые кивают тебе и улыбаются, а ты закатал рукава своей рубашки, солнце и ветер ласкают твою кожу, и ты чувствуешь себя как блестящий новенький доллар и думаешь: вот бы хорошо встретить ее, пока у меня еще чистая одежда. Может быть, в этом магазине излишков военного обмундирования, что в конце улицы, есть в туалете водопроводный кран, и, когда я надену свою новую рубашку и новые штаны, может быть, мне удастся там немного помыться. Я вытащу свою бритву и во время мытья незаметно побреюсь и все время буду держать в поле зрения хозяина лавки, чтобы он ничего этого не заметил. А потом я выйду на улицу и у меня будет вид человека, который может все купить и за все заплатить.
Я слышал пение и возгласы, которые доносились на улицу из раскрытых дверей пивных, и я не пропустил ни одной из них, чтобы не зайти туда и не попытать счастья. Я играл на гитаре и пел самые длинные, самые старые и самые печальные песни и баллады, которые только знал. А потом я кивал, улыбался и благодарил каждого, кто кидал цент или пять центов в мою коробку из-под сигарет.
Толстая мексиканка в пропотевшем черном платье подошла но мне, бросила в мою коробку три цента и сказала:
- Теперь у меня уже ничего не осталось. Я все ждала, когда начнут строить эту большую плотину. Все ждала, что кто-нибудь побежит по улице и закричит: «Работа началась! Уже нанимают! Уже нанимают!»
У меня было теперь достаточно денег, чтобы пойти и купить себе новую рубашку и пару штанов, но они пропотели и пропитались пылью раньше, чем я смог воспользоваться ими, чтобы познакомиться с дочкой лавочника. Выйдя на улицу, я пересчитал оставшиеся у меня деньги - немного больше двадцати центов.
Лысый индеец с бородавкой на носу посмотрел на мои деньги и сказал:
- Двадцать два цента. Н-да. Слишком много для «чили». Но мало для куска мяса. Слишком много для того, чтобы спать на улице, но слишком мало для того, чтобы спать в доме. Слишком много, чтобы считать себя нищим, но слишком мало, чтобы заплатить штраф за бродяжничество. Слишком много, чтобы есть в одиночку, но слишком мало, чтобы угостить приятеля.
Я тоже посмотрел на деньги и сказал:
- Пожалуй, самая ужасная сумма для человека - это двадцать проклятых центов.
Так с этими позвякивающими в моем кармане центами я побрел по улице, через пустырь, потом по песку к железнодорожному полотну, Потом по травянистой тропинке, которая вела в «джунгли».
Я шел по тропинке через холм, заросшей сорняками, под лучами горячего солнца. Лагерь был больше, чем сам городок. Люди понатаскали с разных свалок крыши старых автомобилей и прикрепили их к дубовым сучьям в нескольких футах от земли - у них теперь была крыша. Другие натянули старую мешковину или брезент, у них теперь был дом.
Я услышал, как два брата, любуясь делом своих рук, говорили между собой:
- Я еще не забыл, как плотничать, слава богу. Я еще могу попасть молотком по гвоздю.
Они натаскали со свалки ведра и жестяные банки, расплющили их на земле, набили жесть на доски и соорудили из всего этого особняк.
Многие, главным образом семейные люди, привезли с собой постель, и я увидел старые вонючие одеяла и простыни, натянутые наподобие тентов, и двух или трех детей разного возраста, которые играли под ними. Картонные хижины были битком набиты всякими коробками и ящиками, подобранными в городе, - все шло на жилье. Его было легко соорудить, но первый же дождь сделал бы этих людей бездомными.
И так каждые несколько футов вы натыкались на хижину, сделанную из всего на свете - из старых кусков бумаги, в которую упаковывали гудрон, из двойных рогожных мешков, старого тряпья, рубашек, комбинезонов, натянутых так, чтобы получилась стена; искореженное железо, мешки из-под цемента, коробки из-под яблок и апельсинов, разобранные, а потом сбитые вместе проржавленными гвоздями, которые валялись в пыли. Через крошечные квадратные оконца хибарок до меня доносились обрывки разговоров и кряхтенье пружин кроватей. Мужчины играли в карты, что-то стругали, а женщины говорили о работе, которую они уже сделали, и о работе, которую они теперь ищут. Полы в домах были грязные, а насекомые всех цветов и размеров ползали и летали с таким усердием, будто им за это платили. Здесь были и большие зеленые помойные мухи, и маленькие жужжащие мухи с улиц, навозные мухи, гусеницы, мошкара, клопы, блохи, клещи, и на этом фоне целая армия комаров всех видов выкомаривалась в пении.
Но в большинстве случаев семьи не имели крова над головой. Такая семья просто два или три раза в день coбиралась у костра, и, сидя на корточках на манер индейцев, люди проглатывали несколько ложен мучного соуса с черствым хлебом и тонкими кусочками вареного мяса. На рогожных мешках, старой одежде, сене, соломе и одеялах, гниющих на глазах, сидели и играли дети поменьше, а те, что постарше, все ждали, чтобы кто-нибудь произнес слово «работа».
В «джунглях» было где посидеть и на солнце, и в тени, и вот прямо перед моим носом два семейства расположились на корточках на брезенте; трое или четверо спокойных мужчин что-то стругают, ломают стебли травы, продырявливают листья, роют ямки в твердой земле; женщины качаются от смеха - кто-то удачно сострил. Малыш сосет загорелую грудь, которая уже выкормила четверых ребят, сидящих у огня. На брезенте стоят холодные ржавые жестянки - это их фарфор и заодно алюминиевые кастрюли; речная вода в горячем ведре такая же теплая и чистая, как воздух кругом. Я смотрю на круги, которые расходятся по поверхности воды в ведре, потому что в него упал с дерева червячок и теперь крутится там и вертится, чтобы не утонуть. Один из мужчин сует в ведро палку вроде рогатины, улыбается и продолжает рассказывать о работе, которую он делал, а через минуту, когда червячок хватается за палку, вытаскивает его, подносит к самому лицу, рассматривает, потом слегка стучит палкой о край ведра. И когда червячок падает на землю и своим горбатым шагом удаляется по сухим веткам и золе, все улыбаются и говорят:
- Ну-ну, еле ноги унес, мистер червяк. Небось решил, что ты парашютист?
Вы видели уже миллионы таких людей.
Может быть, вы видели их в толпе в вашем большом городе, в бедняцких районах, набитых людьми так, что трудно проехать.
Может быть, вы думали, откуда взялось столько людей, что они едят, почему они еще живы, что они хорошего делают, что заставило их жить вот так. У них тоже был свой дом, такой же дом, как у любого из вас, они жили в этом доме и работали, как любой из вас.
Потом что-то обрушилось на них, и они потеряли все. Их вытолкнули на большую одинокую дорогу, И они зашагали по ней - от побережья к побережью, от Канады до Мексики, чтобы снова построить себе этот самый дом. А сейчас они как раз забрели к вам в город.
Между вами и ними нет большой разницы. Если бы вы попали в этот дремучий, как джунгли, лагерь, остановились бы в нем вместе с еще двумя тысячами людей, кто-нибудь подошел бы к вам, пожал бы вам руку и спросил: «Кем ты работаешь, брат?»
Может быть, вы встречали таких людей на убогих окраинах вашего города как раз после того, как они отшагали свое по дорогам: людей, которых называют чужаками, людей, которые приходят в ваши края вслед за солнцем, сезонщиков; они приходят, когда распускаются почки и появляются первые листья, приходят, когда поспевают фрукты и нужно собрать урожай, а потом, когда работа уже сделана, они уходят.
А какая работа?
Нефтяные промыслы, мощные плотины, нефтепроводы, каналы, шоссейные дороги, туннели, прорытые в горах, небоскребы, корабли - вот их работа. Они теперь странствуют. Они не загорают на солнце, они живут по солнцу, и оно освещает землю, которая - они знают это - принадлежит им.
Если вас интересуют социальные проблемы, вы услышите о них от многих хороших людей, которые много смеются и разговаривают, и часто в их разговорах много здравого смысла.
Я слушал, о чем говорят в «джунглях».
- Что станут делать все эти люди, - говорил мужчина в мешковатом комбинезоне с торчащими во все стороны усами, - когда с плотиной будет покончено? Ничего? Нет, мистер, не тут-то было. Как ты думаешь, для чего мы строим эту плотину? Чтобы заставить воду орошать новую землю, чтобы вода залила весь этот похожий на пустыню край. И когда несколько капель воды попадет в эту землю, она начнет приносить урожай, из грязи поднимутся огромные деревья. Тысячи и тысячи семей получат землю, которая им так нужна, и я тоже не пропущу возможности получить свои маленькие двадцать акров.
- Вода, вода! Заладил одно и то же, - перебил его парень лет двадцати в самодельных ковбойских сапогах. - Ты что думаешь, все дело в воде? Это только полдела, приятель. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что самое важное из всего - это электричество, которое даст плотина? Я могу лежать на этом самом холме в «джунглях» вместе с другими подыхающими от голода ребятами, которые ждут работы, и, знаешь, я не слишком много обращаю внимания на всю эту грязь и мерзость. Нет, я стараюсь представить себе, что здесь будет. Появятся большие заводы, которые будут изготовлять все на свете - от удобрений до бомбардировщиков. Высоковольтные линии, стальные вышки поднимутся на всех этих облезлых холмах, и - что самое главное - люди станут работать на своих маленьких фермах, и целые толпы, целые кучи народа получат работу на больших новых заводах.
- Это дары господа, вот что это такое, - вставил маленький человек, наполовину индеец, нервно обрывая стебли травы. - Господь послал тебе и разум, чтобы ты представил себе все это, и силу, чтобы построить все это. Он дает, когда хочет. Потом, когда хочет, он отнимает то, что дал, если мы не умеем правильно воспользоваться его дарами.
- Если мы все объединимся, объединимся социально, и построим что-нибудь, например большой корабль, какую-нибудь фабрику, железную дорогу, большую плотину, это будет работа социальная, правда? - Так говорил молодой человек в роговых очках, серой фетровой шляпе и синей рабочей блузе; из кармана его торчала авторучка и записная книжка, и чувствовалось, что он прочел немало книг.
- Социальный - это когда ты и я - мы вместе работаем и потом вместе владеем тем, что сделали. Что здесь плохого, ну скажите мне кто-нибудь! Если бы сейчас вот здесь, с нами, сидел Иисус, он сказал бы то же самое. Спроси Иисуса, на кого черта две тысячи людей живут в этом лагере, как стая диких зверей. Спроси Иисуса, почему еще миллионы людей живут точно так же! Испольщики на Юге, жители больших городов, которые работают на фабриках, а живут, как крысы, в грязных трущобах. Знаешь, что Иисус ответит тебе? Он скажет, что мы обязательно должны объединиться, должны работать вместе, вместе строить, вместе чинить, вместе выгребать старую грязь, строить новые здания, школы и церкви, банки и фабрики и потом вместе владеть всем этим. Конечно, это назовут каким-нибудь «измом». Но Иисусу все равно, как ты это назовешь - социализмом, коммунизмом или просто мной и тобой.
Когда наступал вечер, все вокруг стихало, и вы могли переходить от одной группы людей к другой и заводить разговор о погоде. Но погода не давала возможности перейти к какой-нибудь острой теме, потому что в окрестностях Реддинга вот уже девять месяцев погода совсем не менялась, и вы слышали как люди подходили друг к другу, знакомились и говорили:
- Жара будь здоров, а?
Я подошел к кучке парней от двенадцати до двадцати пяти лет, они наигрывали на банджо или гитарах и пели песни. Двое из них собирали вокруг себя каждый вечер небольшой кружок слушателей, это всегда происходило на заходе солнца.
Рядом стояла под деревом старая кровать, а на ней играл ребенок, который мог поползать на воздухе только на заходе солнца, потому что до этого комары и мухи не дали бы ему покоя.
Сейчас наступило его время гулять, а две его сестры должны были следить за тем, чтобы он не упал на землю. Одной было около двенадцати лет, другой - около четырнадцати.
Их отец расположился позади кровати на бывшем сиденье от машины. Он посматривал на детей поверх своих дешевых очков после каждой фразы, которую прочитывал, и адамово яблоко на его шее двигалось вверх и вниз. Его жена сидела рядом и пела обо всем, что господь сделал для нее. Резвый малыш стоял на ногах впервые в жизни и, подскакивая, прыжками двигался к краю матраца. Отец сморщился, сплюнул на ствол дерева табачную слюну и сказал:
- Девочки. Да, девочки. Подите в дом и принесите оттуда свои музыкальные погремушки, сядьте на эту кровать и играйте с малышом, чтобы он не свалился.
Одна из сестер настроила гитару, потом взяла аккорд.
Вокруг стали собираться слушатели, и все затаили дыхание, когда в угасающем свете дня девочки запели:
Чтобы петь тоскливо, надо тосковать,
Чтобы петь тоскливо, надо тосковать,
Чтобы петь тоскливо, надо тосковать,
Тоскую сча-а-а-а-с,
Но мне недолго ждать.
Я слушал этих девочек с того места, где сидел, опершись о старое корыто с водой. Я слышал слова, ясные как день, я слышал, как они плывут над деревьями и потом опускаются в лощины. Повесив свою гитару на сук, я растянулся на сухой траве и весь отдался песне. Как только девочки умолкали, малыш начинал лягаться и брыкаться, как армейский мул. Но стоило ему услышать первую ноту следующей песни, и он засовывал в рот ручонку, а ноги его чуть-чуть двигались, словно отбивая такт.
Не знаю, почему я не сказал им, что у меня есть гитара, которая висит на суку. Я лежал, откинув голову, и впитывал каждое слово, которое они пели. Их песня звучала так чисто и честно, не то что голливудские песенки и прочая фальшь. Их пение не возбуждало и не будоражило - нет, в нем было что-то другое, чего тяжелее достичь и что нужнее вам в десять раз. В голове прояснялось - вот что делало их пение, и вы ложились на землю и отдыхали, расслабив все тело, как кошка.
Две маленькие девочки добились того, что две тысячи людей чувствовали то же, что чувствовал я, отдыхали так же, как я. Если вы думаете, что я преувеличиваю, говоря о двух тысячах, посмотрите на эти низенькие холмы.
Вы увидите над каждым кустом одну или две шляпы. Кто-то уходит, кто-то приходит, кто-то, стоя на коленях, склонился над ручьем и пьет воду; пятеро парней бреются перед крохотным осколком старого зеркала, пользуясь жестянками вместо стаканов; женщина рядом со мной выжимает видавшую виды рабочую блузу и в той же воде выстирает еще четыре.
Вы окидываете взглядом южный склон холма и видите, что не меньше сотни женщин занимаются тем же самым - стирают, выжимают, вешают рубашки, гладят их. Ни одна из них не говорит иначе, чем шепотом, и чувствует себя чуть ли не виноватой, потому что знает, что девяносто девять из них устали, измотались, расстроены и смеются или шутят только для того, чтобы не заплакать.
Но эти девочки поют обо всех их несчастьях и все знают, что это помогает. Их песни рассказывают и о тяжелых странствиях, и о невезении, и о трудностях, которые встречаются в пути, но они говорят и о том, что мы преодолеем все это, все будет у нас хорошо, мы будем работать, станем полезными людьми, вот только пришла бы из Вашингтона телеграмма, что пора строить плотину.
Я знал себя, знал, что застенчивость и робость обычно мешают мне завязывать знакомство, но что-то толкнуло меня сказать:
- Замечательное пение. Как вас зовут?
Две девочки говорили медленно и спокойно, без всякого напряжения и натянутости, совсем просто. Они сказали мне, как их зовут.
- Мне нравится, как вы играете, - сказал я. - Звучит мягко и тихо, а слышно далеко. Все три холма поют от ваших гитар, и все люди кругом слушают, как вы поете.
- Я видела, что они слушают, - сказала одна из сестер.
- Я тоже, - сказала другая.
- А я должен играть громко, потому что играю в пивных и мне нужно, чтобы моя гитара перекрыла шум, который там стоит, и посетители чувствуют себя неудобно передо мной и бросают мне центы и пятаки.
Я не люблю эти заведения, - сказала одна из девочек, - я тоже, - сказала другая .
Я посмотрел на их отца, и он тоже посмотрел на меня сквозь свои очки, скривил губы, подмигнул мне и сказал:
- Я тоже против баров.
- Да, ты, конечно, против - все время торчишь против стойки, - сказала его жена довольно громко.
Обе сестры серьезно и пристально посмотрели на своего отца. Собравшиеся захохотали, а потом снова стали устраиваться поудобнее, чтобы слушать: оперлись о стволы деревьев, сели на перевернутые ведра, растянулись на траве, притоптав стебли.
Я встал и пошел за своей гитарой, снял ее с сука и когда шел обратно, думал: господи, старушка моя, ты побывала во многих местах, повидала много людей, но сейчас, пожалуйста, не звучи так дико и неистово, потому что эти маленькие девочки и их мама не любят питейных заведений.
Когда я вернулся, девочки пели:
В военной Колумба тюрьме
Без девчонки сижу на мели,
В военной Колумба тюрьме
Эх, как тянет домой в Теннеси!
«Колумбова военная тюрьма» была одним из моих первых достижений, так что я подождал немного, потом настроил свою гитару, прислушался и, убедившись, что настроил ее хорошо, стал наигрывать мелодию, предоставив их гитарам басы и второй голос. И когда они услышали меня, они заулыбались, потому что, когда две гитары играют именно так, это и есть настоящая музыка, на которой выросли миллионы детей.
Если задует циклон, или наводнение разорит страну, или целый автобус школьников замерзнет где-то посреди дороги, если утонет большой корабль, если самолет разобьется где-то в окрестностях, или бандит затеет перестрелку с полицией, или рабочий люд одержит победу в борьбе - словом, если хорошенько подумать, всегда найдется целый вагон вещей, о которых можно придумать песню.
Ты услышишь, как люди по всей стране поют твои слова, и ты будешь петь
их песни, куда бы ты ни поехал, где бы ни жил. И только такие песни оседают в моей голове, в моей памяти, в моей гитаре.
Taк две девочки и я пели вместе, пока толпа слушателей не выросла еще в несколько раз, а под деревьями не стало совсем темно, потому что луна не могла нас достать под ними.
По моей ноге дорогой башмак,
По моей ноге дорогой башмак,
Да, по моей ноге дорогой башмак!
Не дам я с собой обращаться так!
Поздним вечером понемногу начали возвращаться в лагерь ребята, отправившиеся в пивные, где они потеряли свои последние центы, играя в покер с шулерами. Мы видели, как они поднимались на холм по двадцать пять или тридцать человек, как они кричали, сквернословили, пинали ногами пустые ведра и жестянки из-под кофе и выли, как пантеры.
Но когда эти озверевшие люди подходили к тому месту, где мы пели, вся их пьяная орава останавливалась на месте как вкопанная, и они начинали шикать друг на друга, садились на землю и слушали. Тишина стояла такая, что казалось, она вот-вот затрещит в воздухе. Ребята сидели, прислонив головы к стволам деревьев, и следили за светлячками, которые то зажигали, то гасили свои огоньки. И светлячки тоже должны были просить друг друга вести себя потише, потому что в «джунглях» наступил час доброго отдыха, люди отдыхали и слушали, как песня девочек плывет над лагерем вместе с ветром.